Мы сохраняем устную историю. Помочь нам можно здесь.
Мой папа – Макаров Алексей Тимофеевич, он сам из дворян. Окончил Александровское воздухоплавательное училище в Чернигове. А мама – Ксения Степановна, сестра милосердия. Оба они воевали с 1914-1916 гг. на фронте с немцами в Первой мировой войне.
Я родилась в Брянске в 1927году. Родители разбежались в годы гражданской войны: мама уехала на родину, а папа к себе в Брянск. Потом папа поехал к ней и забрал ее в Брянск, и они поженились там. Мама была из крестьянской семьи, она окончила курсы сестер милосердия в четырнадцатом году. Курсы эти сотворила графиня Уварова – вдова, сын, которой погиб на фронте. Она была совершенно одинокая, средства она отдала этой идее. Днепропетровское училище до сих пор стоит, оно даже было техникумом. Набирали туда девушек, сирот в основном, а мама была сиротой.
Моя мама очень интересная, грамотная была. Ее в четырнадцатом году в Потемкинский дворец послали, чтобы диплом вручить об окончании.
Еще до моего рождения кто-то написал на папу, что он служил в Белой армии. Его забрали, но проверили. И папа убедил их, что он любит Россию и что не мог вступить в Белую армию. Его отпустили работать, так как он большой специалист, все-таки он уже работал в армии, руководил аэростатами. Самолетов-то не было, были только шары. Папу послали сразу же работать из Москвы в Вятскую поляну, Кировская область. Там был лес, пригодный для самолетостроения. На это дали очень большие деньги. Папа никому не доверял ни печати, ни подписи – ничего. Коллектив у него был большой, в лесу он проработал где-то лет семь. Юра, мой брат, родился в Брянске, мама ездила к бабушке. А после я родилась в Вятских полянах, зарегистрирована в Брянске.
Очень интересная жизнь была. Мама рассказывала, что у нас нянька была. Чем мама нас кормила? Овсом, делала самостоятельно толокно. Она ходила на мельницу, там чистили ей этот овес, она мочила его в молоке, а после сушила в печи. Мы ведь жили в деревне в глухом лесу.
Папа умер в тридцатом году. Мне было три года, поэтому папы не помню. И мы уехали из Вятских полян, похоронив там папу. Уехали сразу в Брянск. Бабушка отдала папин дом. Бабушка хитрая была. Когда я родилась, она попросила папу и маму назвать меня Эммой. Эмма так Эмма, мы же тогда ещё не разбирались в именах. А когда крестила меня бабушка в три года, священник отказался крестить, потому что в святцах этого имени нет, хоть оно и православное. Бабушка очень образованная, очень хитрая, смогла перед революцией продать поместье и купить три дома в Брянске. Обыкновенные дома: один дом папе, второй дом дяде Пете, а третий себе и сестре. Мама сразу все бросила, продала за бесценок дом со всем имуществом и уехала на родину в Днепропетровск.

То, что началась война, я не совсем поняла. Мы с мамой были на рынке, был, по-моему, воскресный день, мы ходили покупать продукты. Мама работала в госпитале Днепропетровском всю жизнь. Стали объявлять, что война началась, что на Россию напала Германия, начали бомбить города. Мама как вкопанная остановилась и не могла понять: «Ты знаешь, доченька, это очень страшно». Вот я помню: война – это очень, очень страшно. Мама не могла двинуться с места, держала меня за руку, мы держали ещё сумки с продуктами. И я хорошо помню, весь народ остановился, люди стали плакать, ведь только пережили гражданскую.
… Мы пошли домой. У нас жилья не было, маму приютила тетя Лида в двенадцати метрах, и то, на чужой площади. Тетя Лида приехала с дядей Андрюшей из Саратова. Она уступает маме эту комнату в трехкомнатной квартире, имея четырех детей. Отдает маме кухню, а сама устроила себе на верандочке кухоньку. Вот мы на этих двенадцати метрах и жили. Одна кровать стояла, мы с братом Юрой спали на полу.
1 сентября в день рождения мне пришла повестка явиться в Днепропетровский полицайпрезидиум. До угона в Германию по Днепропетровску были развешены отпечатанные большие плакаты, где было ясно и четко написано: кто добровольно хочет ехать работать в Германию, уйти от войны подальше, просим обращаться в полицайпрезидиум. И адреса указаны в Германии. Но нужно ехать семьями с детьми. Я на это не обратила внимания. Об этом и не могло быть и речи. Мама очень хорошо знала немцев: очень порядочные люди и в то же время очень агрессивные и очень гордые.
Вызвали меня в полицайпрезидиум по призыву. На плакате было написано: если не явитесь, придется увезти всю семью. Я приехала домой, мама меня собрала, поплакала. Она сама подумала – подальше от войны, может быть, спасется. С полицайпрезидиума нас отправили на Чечевицкую в тюрьму, там был сборочный пункт. Тут мы сидели недели две, была у нас очень большая камера. Это была не сама тюрьма. Мы там, на полу спали кое-как. Мне мама приносила еду, тетя Женя ездила в Адамовку, меняла вещи на продукты, принесла один раз три жареных курицы. А я по своей доброте эту курицу разделила всем по кусочку: подумаешь, проживу. Это мне сыграло громадную роль в жизни. Когда нас собралось уже много, повезли на станцию. Недалеко от станции были платформы, куда пригнали товарняк, и с музыкой провожали. Родителей не пускали к нам, но передачи нам давали, мама с тетей много передали.
Мы плакали. Пусть и увозили нас от войны, но и от матери меня увозили. Мама, конечно, с тетей Женей очень плакали.
Погрузили нас в эти вагоны, там мы на полу спали. Повезли через Белоруссию, нам ещё давали хлеба, после нас кормили где-то в Бресте, по-моему. Кормили горячим. А после нас увезли в Германию. Привезли в Ганновер, где был сборочный пункт. Туда всех везли со всей оккупации. Очень большой лагерь был, большие бараки. А оттуда забирали уже как рабочих. Я попала вместе с днепропетровчанами. Нас много попало, человек шестьдесят. Забрали на Ротензе работать, на товарную станцию, на продукты. Развозили эти продукты по пунктам. Какие пункты, мы не знали, но знали только одно: все это шло на фронт. Как-то остановили другую смену там, где проходных не было. Просто окружили группу и обыскивать начали. И у каждого, конечно, был и мед, и масло, консервы и так далее. Мы не знали, куда увезли тех девчонок, которые были с продуктами. Мы перестали воровать, побоялись. Недели через две и нас увезли, то есть от нас отказались – воровитые эти русские.

Мы стали работать в Магдебурге, на товарной станции главного вокзала. Мы мыли вагоны, убирали их, а после нас стали привлекать работать и с продуктами. Жили в нормальных бараках, были простыни, двухэтажные койки были в Магдебурге, кормили нас два раза. Третий раз – утром бутерброды ели, потому что с вечера получали хлеб. Опять же мы воровали продукты. Мы голодными не были. Нам и деньги давали, и в воскресенье выпускали, но из тех заработанных денег тридцать процентов высчитывали. Их высчитывали за питание, тридцать процентов – за жилье, десять процентов – за уборку ( мы не убирали, некогда было как-то).
Я была связанна с заводом Круппа, где наши девочки голодали – под землей делали военную промышленность, нам надо было им помогать. Я уже месяца три была в Германии, как-то к нам приходят к нам ребята: «Эмма, простая вещь! Тебе покажут место, где будет бумажка с несколькими цифрами, ты должна их передать мне или Виктору Чайке. В случае чего ты должна нам подготавливать продукты». Я к туалету потихонечку относила продукты, складывала в ящичек. Я начала работать. Как идет моя смена, я прячу в свой схрон продукты. Я знаю, где этот схрон и где эта бумажка, казалось бы, неприметная. И я начала расспрашивать, он отвечает, что это мне знать не надо, просто делай вот это маленькое дельце. Потом все узнала, когда встретилась с Мишей в Днепропетровске. Это был шифр. Немецкие коммунисты сообщали белорусским партизанам через наших связных, по какой дороге будет идти военный состав. Мы перед белорусами после этого должны стоять на коленях. Благодаря этим сведениям, были взорваны многие поезда, которые шли на Москву для подкрепления. Немцы недополучили эту технику, этих солдат, эти танки. Что там было, я не знаю, я знала только цифры, я их запоминала, память у меня феноменальная.
Но меня арестовали. Я вышла, за деревянным забором мы сделали незаметный лаз. Через него я передавала несколько слов и продукты. Сколько ниточка не вьется, она все равно куда-нибудь приведет, вот к этому и привело. Пропадают продукты, может быть, кто-то где-то сказал, начали за мной следить. И в одно прекрасное время меня сцапали, они не ожидали, что с той стороны ещё кто-то будет. Когда меня схватили за руки двое полицаев, я успела крикнуть: «Шухер!» У нас был уговор, в случае чего они не поймут это слово. Там был забор, а за забором – насыпь, вот они сползли с этой насыпи, услышав мое слово, где-то скрылись. Были свистки, их начали искать. Их не поймали. Виктор Чайка, видимо погиб, потому что Миша сказал: «Я не знаю, где он».
Меня схватили и повели в полицайпрезидиум. Здесь переводчик перевел это слово. Безусловно, они узнали, что кто-то еще был. Они убежали, а меня схватили, увели меня туда. Повели сначала в барак, забрали вещи мои: у меня была папина фотография маленькая с кадетского корпуса, мамина – сестры милосердия и вот этот ларчик. Больше ничего не нашли, писем нет. Я оказалась в тюрьме, и начали следствие. Безусловно, начали допрашивать: «Кто?». Я говорю, что передавала продукты ребятам, они работают. «А где работают? На каком заводе?». Предала по записке своей подружке: «Помоги, потому что я родила, мне нужна помощь». Вот пришли ребята помочь. «А зачем вы кричали «шухер»?». В связи с тем, что тут ещё были завязаны ребята, меня избили, мне сломали перепонку носовую, хрящик висел этот до самой войны, после войны меня оперировали во Львове. Кровила я страшно, потому что по голове ударили, у меня открытая травма черепа – это мое счастье. Когда у меня сильно начала кровь бежать, переводчик русский, наверное, эмигрант чисто на русском сказал: «Обычно он добивает. Вы воскресли». Он ему дал указание на немецком, тот начал меня сразу бинтовать, йодом смазал, завязал. И меня перевязанную увезла машина в Магдебургскую тюрьму. Я там пробыла мало, недели две. А после нас собрали, наверное, человек восемьдесят и в вагонах военных отправили в Лейпциг. Пробыла ещё с месяц в Лейпцигской тюрьме. Как раз были праздники – святки, новый год, потому что 18 января меня арестовали. А перед арестом гадали: мы брали башмаки деревянные и бросали через забор. И башмак у меня так упал удачно, я ещё и говорю: «Девочки, я скоро домой!» Мама в госпитале познакомилась с немцем, который ей пообещал меня забрать. Не в Россию, а в Германию к своей семье, написали письмо. Приезжала его жена, ей отказали. Меня не забрали, но все-таки надежда была, и я закричала: «Девочки, я скоро уеду!»
И в Лейпциге мы пробыли, может, месяц, я точно не могу сказать. В Магдебурге была тюрьма грязная, большая. А в Лейпциге были комнаты, камеры, двухэтажные койки, чистота неимоверная, все светлое, простыни были даже, очень чисто. Здесь опять собрали ещё больше людей, нас повели этапом, здесь недалеко было от Лейпцигского вокзала. Все узлы свои собрали, нам разрешили. Нас погнали по улицам, оградили и привели опять на вокзал, на какую-то платформу. Посадили в телятники, куда везут – не известно, но поехали, как мы определили, на восток.

Нас разгрузили в Дрездене прямо на вокзале, пересадили на другой вагон. В Дрездене нам дали горячую пищу – суп в красных круглых мисках. И снова посадили в состав, повезли дальше на восток. Мы представляли, что нас везут в Россию. Привозят в Оушвиц, в Освенцим. Поставили по пять человек, окружили собаками, но без оружия. Полицаи – наши, все на русском языке говорили. Нас не в лагере привезли, вдалеке были видны огни – это горели крематории, но я-то этого не знала. Идет рядом со мной немец, полицай, я спрашиваю: «А что это такое?». А он говорит: «Завтра узнаешь». И нас привели в Оушвиц, в деревянный барак, где карантинный лагерь был. И до утра мы спали на земле. Нас арестовали зимой, тиф шел, холодно было, но там было сено, мы топились большой буржуйкой, труба по земле шла. Здесь топилась печка, было тепло. Утром нас покормили, дали по кусочку хлеба, на хлеб положили ложечку повидло, ничего горячего не дали. Начали стричь волосы. Мы, днепропетровчане, сгруппировались с девочками Машей и Катей из Курска. У Маши были такие толстые косы, и вдруг ей их отрезают. Боже, как она плакала, как она рыдала! Я помню до сих пор этот плачь, слышу даже. У меня жидкий волос всегда был, меня быстро-быстро подстригли. После нас отправили в барак и начали выбивать номера. Вот здесь у меня шрам, у меня был номер 75454, у Машеньки за мной был 455, у Кати был номер подряд – мы так встали втроем. Было страшно больно, нас иголками кололи. После, конечно, очень долго болело, очень долго нарывало.
Заправили нас в карантинный барак, это был карантинный лагерь. Мы узнали утром все подробности, про крематорий. Сказали, что мы будем работать, жгут только преступников: гомосексуалистов, евреев, цыган и так далее. Посоветовали не падать духом: будете падать духом, вы погибнете. Начался тиф, мы не выходили из бараков, только выносили тех, кто погиб. Очень много людей погибло, хоть нас лечили.
18 января сорок пятого года оккупировали нас, мы не знали, куда. Когда нас начали бомбить, бомбили только немецкие казармы, мы радовались каждой бомбе, чувствовали, что наши уже близко. 27 января освободили лагерь. Нас со всех лагерей начали свозить, ведь Освенцим ¬¬- это не один лагерь. Когда мы были на разборке, сколько мертвых было… После мы привыкли к трупам, к смертям, к тому, что кого-то сжигали.
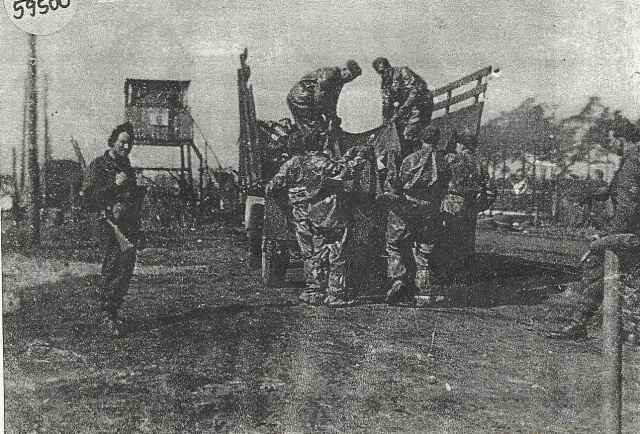
Нас собрали со всех лагерей и повезли по «дороге смерти», это было страшно. Дали по куску маргарина и по булке хлеба, теплую одежду и одеяла теплые. Мы даже распускали их и вязали себе чулки – ноги-то деревянные. Мы шли пешком. Всех, которые не могли ходить, расстреливали, поэтому я назвала впоследствии эту дорогу дорогой смерти. Их расстреливали и спускали вниз. Кто-то оставался в живых, судя по некоторым мемуарам. Помню такую картину: одна старая еврейка на коленях стоит и цепляется за полицая, который хочет ее убить, и говорит: «У тебя ведь есть мать, оставь меня, брось!».
Дошли мы до деревни между Котовицами и Краковым. Мы уже ползли туда, не было сил. Я-то себя неплохо чувствовала, потому что в Освенциме промышляли. Опять в вагоны, нам посоветовали садиться в открытые. Повезли на запад через горы, через Югославию. Трупы мы выбрасывали. Первый раз нас кормили в Магдебурге, кормили ребята из Бухенвальда, налили мне супа. А у нас открытый же вагон, могли выйти даже. Когда ехали через горы, было холодно, лежал снег. Так мы мутузили друг друга, чтобы согреться. Накрывались одеялами и спали сидя, иногда песни пели, мы никогда не унывали. Тот, кто унывал, тот и умирал. В Магдебурге я встретила днепропетровских ребят, они мне мяса положили. Привезли в Берген Бейзен, выгрузили утром. Лагерь этот стоит между двумя городками : Берген и Бейзен. Здесь большущий немецкий полигон и три лагеря. Мы не работали. Из нашего барака взяли только пять человек в трупную команду. Когда нас кормили, мы не умирали, но в середине февраля налетает английская армия и начинает бомбежку, уничтожили все продовольственные склады кроме одного резервного. Тогда начали умирать и у нас в бараках.
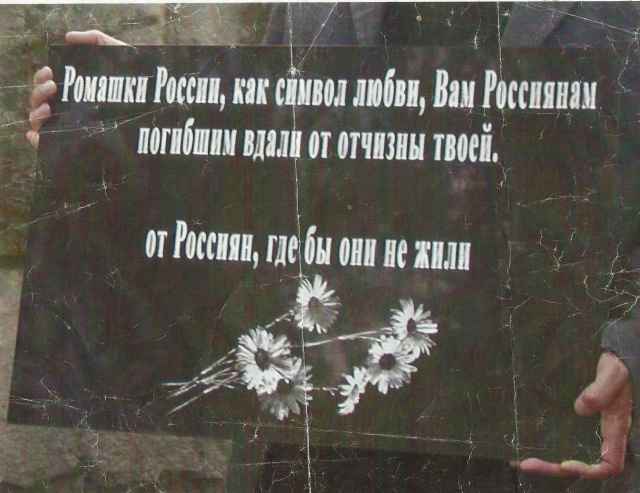
Я работала в трупной команде, тиф сжирал тысячи людей. В нашем славянском лагере за полтора месяца умерло двадцать тысяч, в мужском лагере военнопленных погибло пятьдесят тысяч, итальянцев погибло пятьсот человек, бельгийцев четыре человека, французов пять человек, поляков двадцать пять человек. А наших пятьдесят тысяч. 15 апреля нас освободили, а до 15 апреля я уже умирала. Я заболела где-то в конце марта тифом.
Нас привезли в сорок пятом году, уже вот-вот День Победы, а нас умирают поголовно. Трупы мы просто сбрасывали в яму. Но предварительно нас заставляли их раздевать, вещи эти для чего-то хранили. Здесь умирали с голоду. Представляете, не кормили ничем, ни куском хлеба, ни супом, ни водой. Человек долго так может прожить? Если он ещё слабый, если ещё у него нет силы воли, если он не может ходить, а ещё в тифу. Я, может, неделю работала. Там никто не хоронил рядышком, как у нас хоронят, там просто бросали. После я заболела, через какое-то время перестала соображать. День-два и меня б не стало. Меня даже не забрали на нашу зону русские санитары, а оставили англичанам в лагере смертников. В последнее время я не помню себя. Единственное, что запомнила, шум в бараке: «Победа!».






